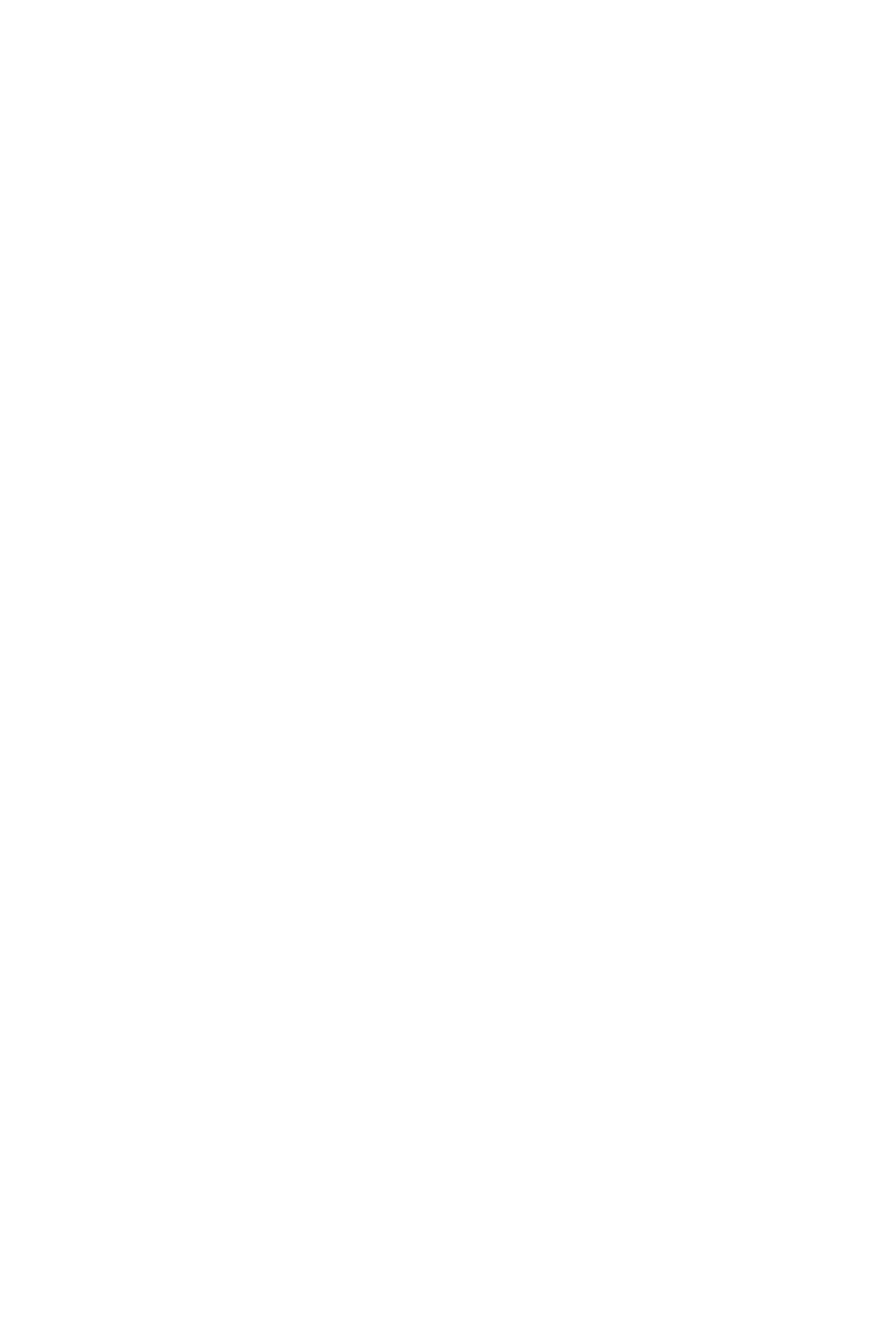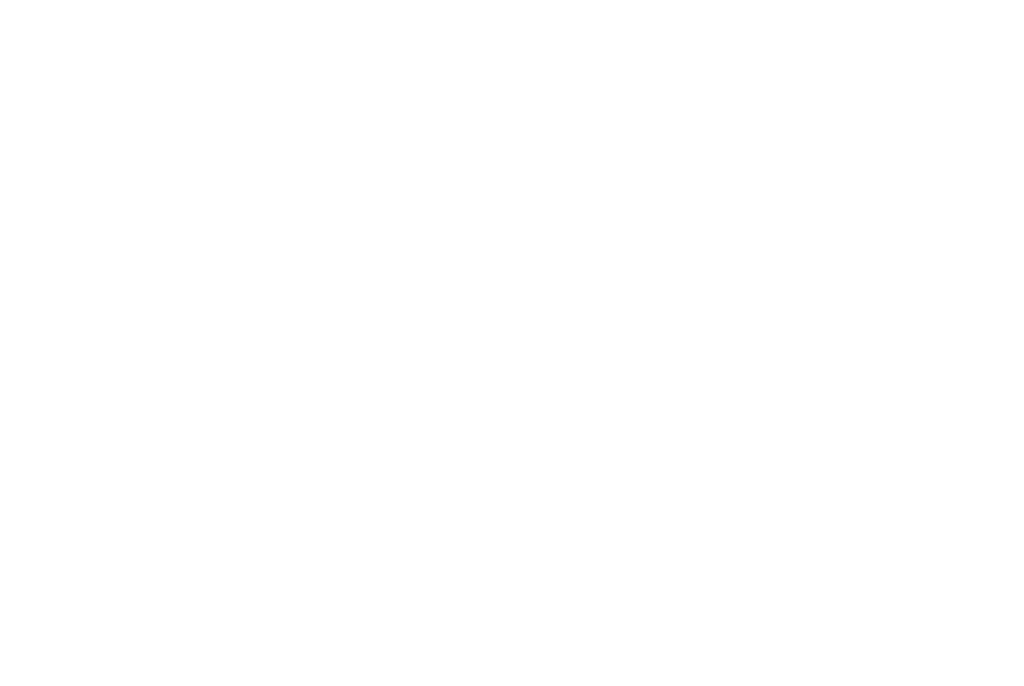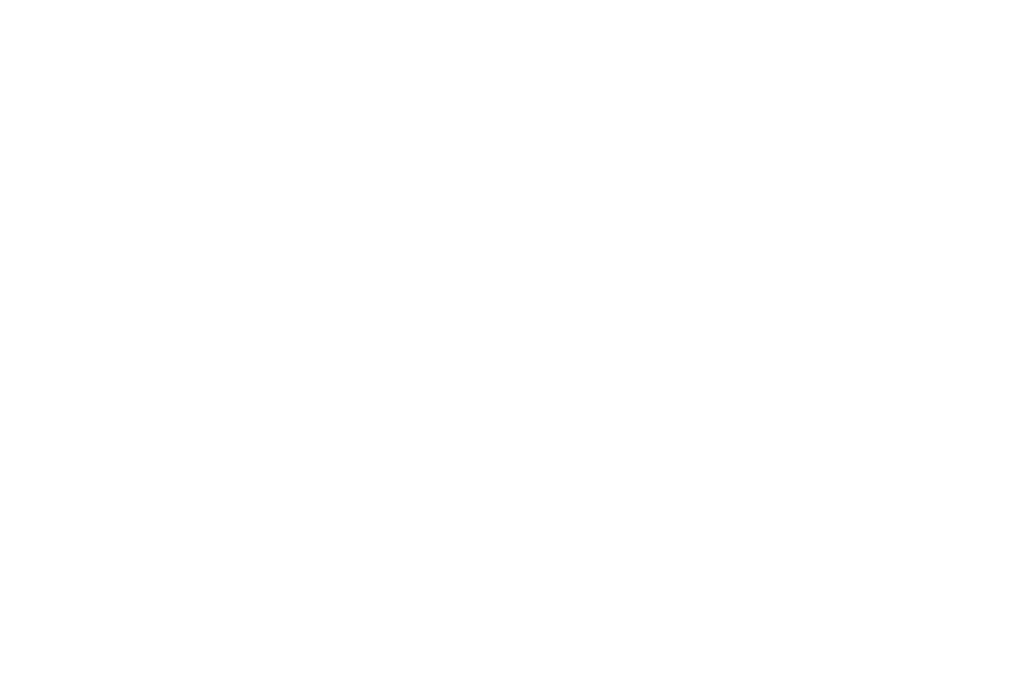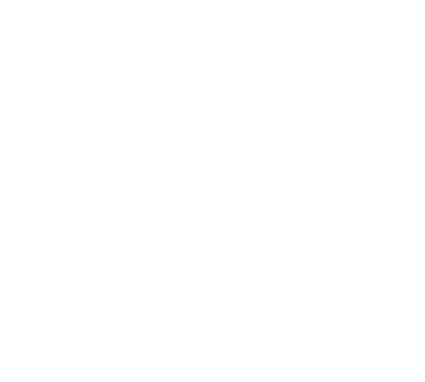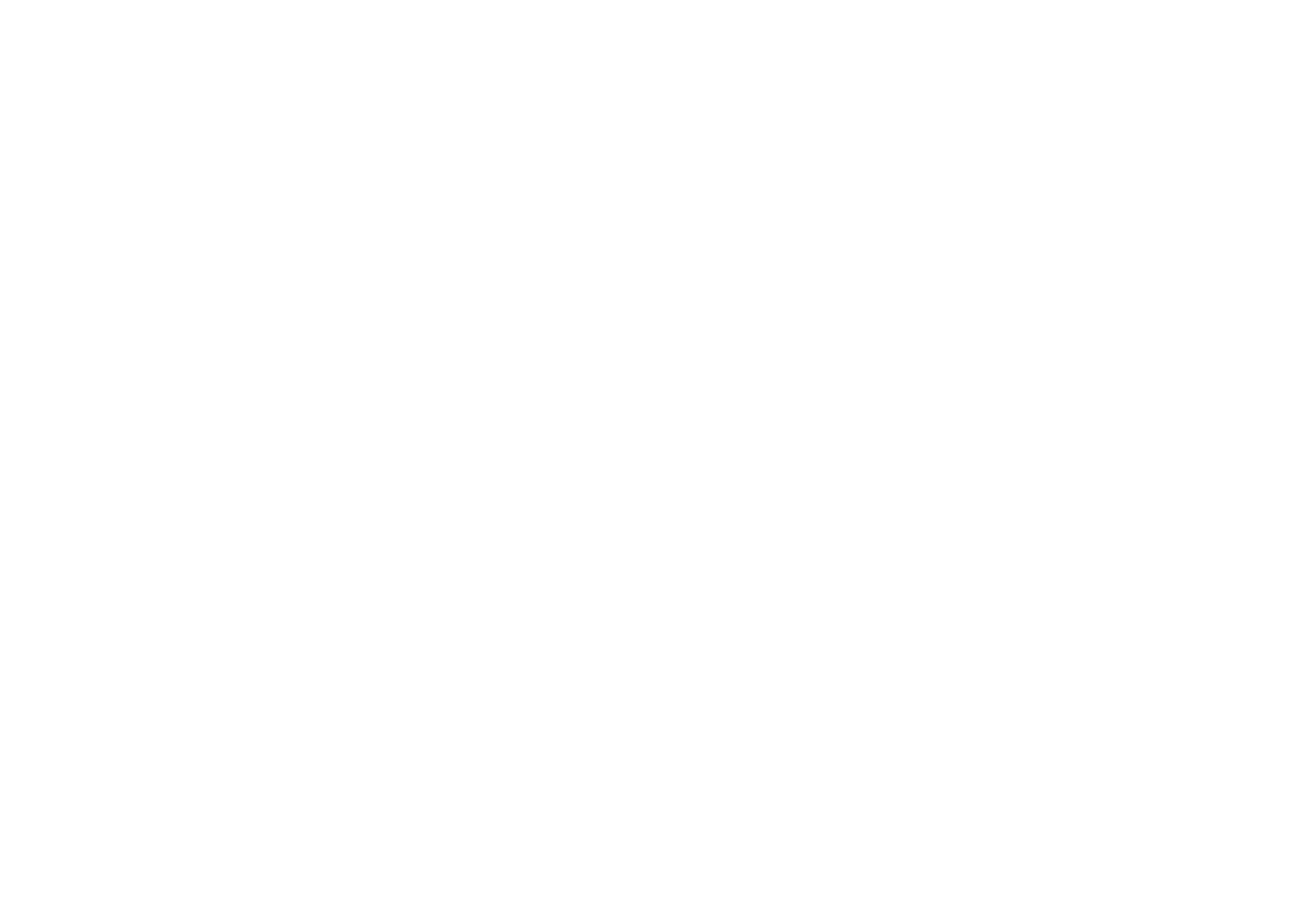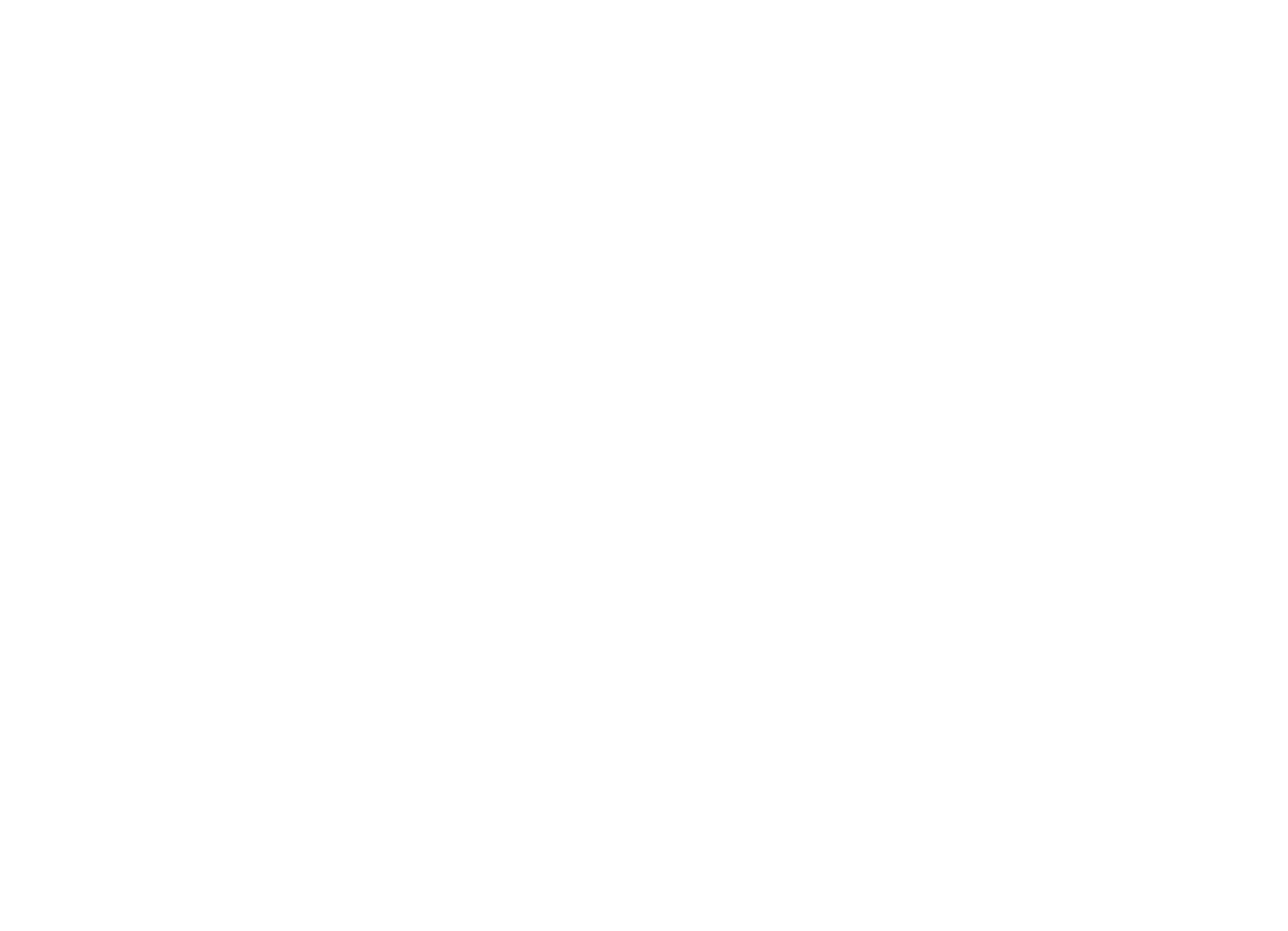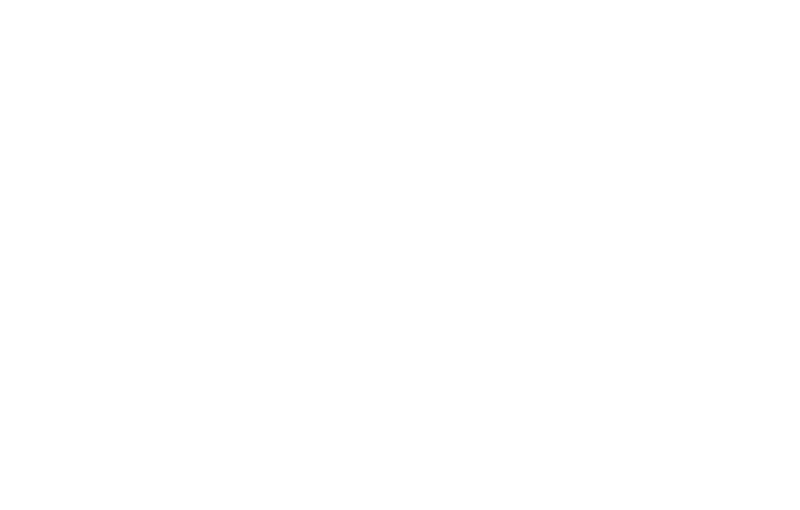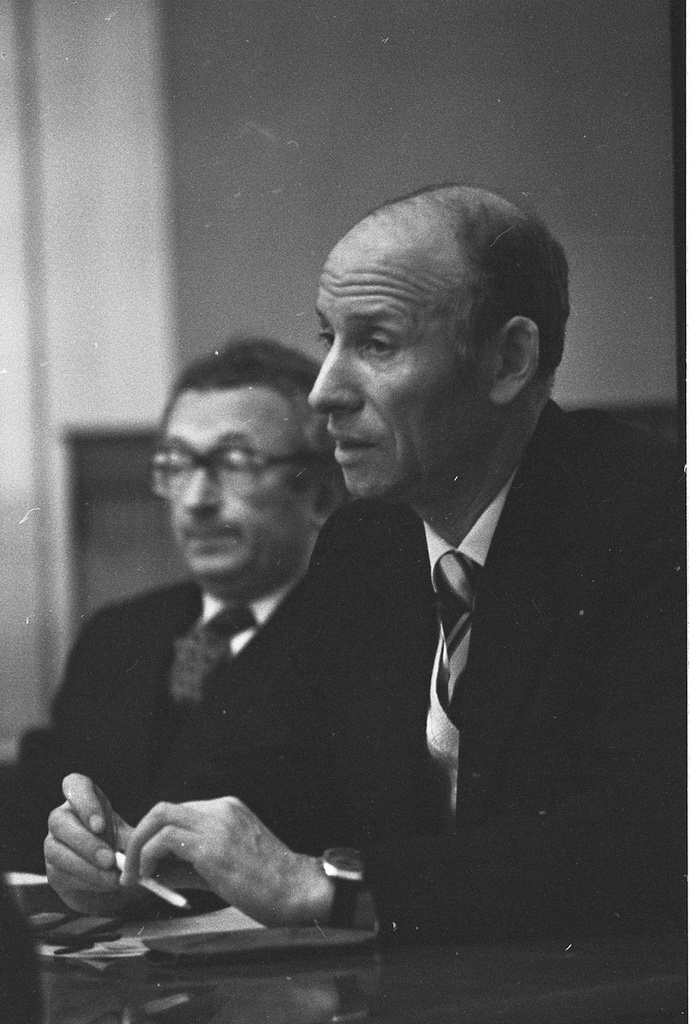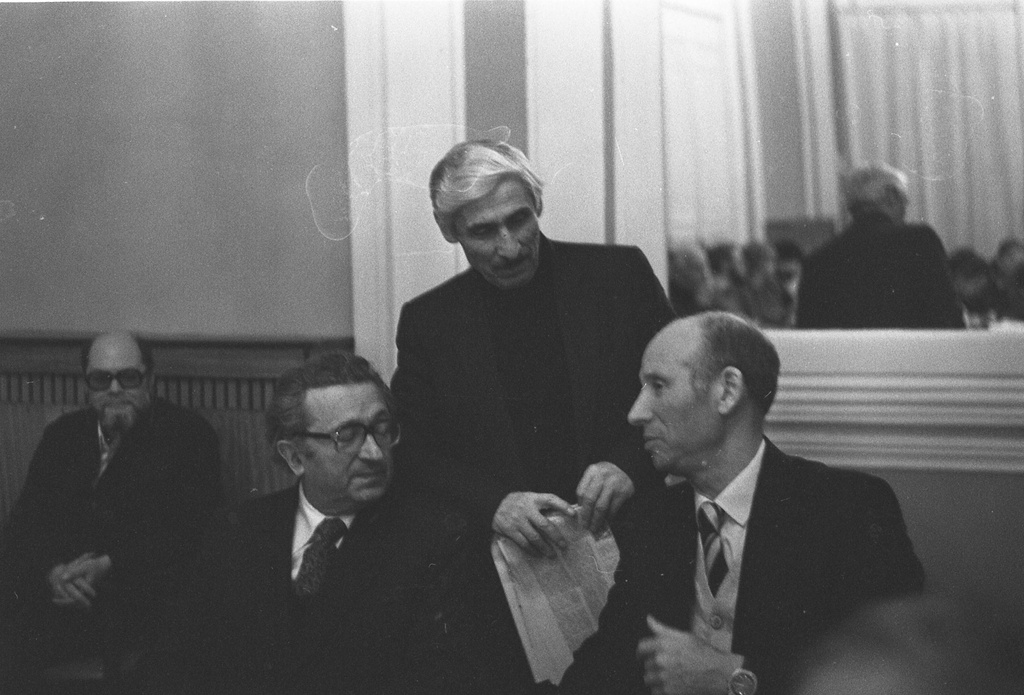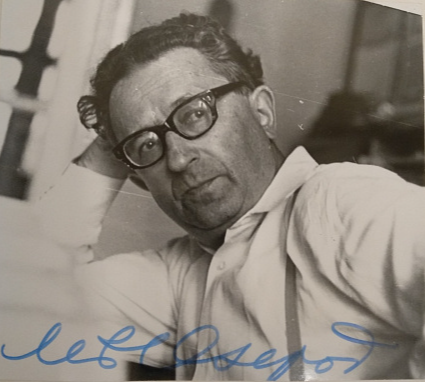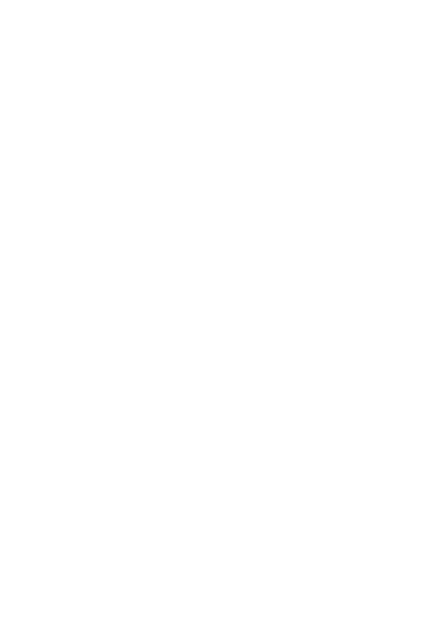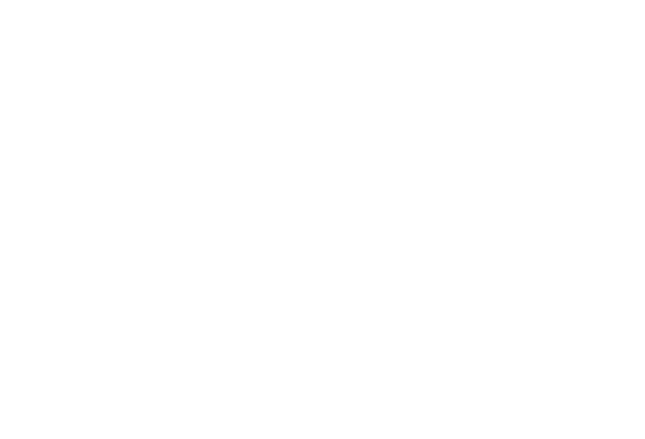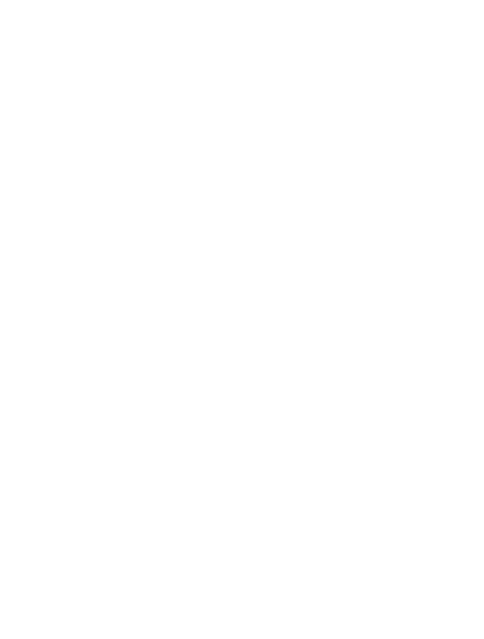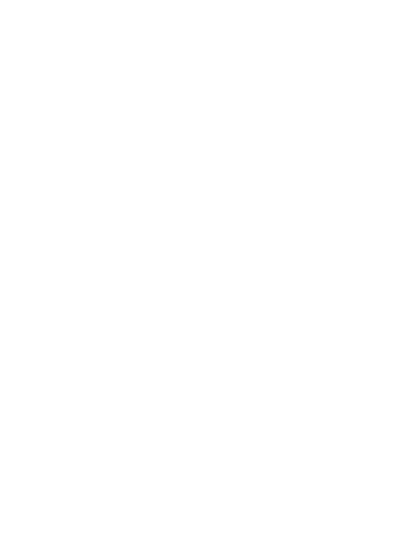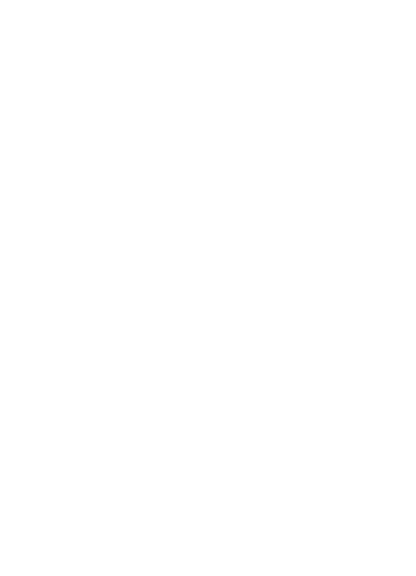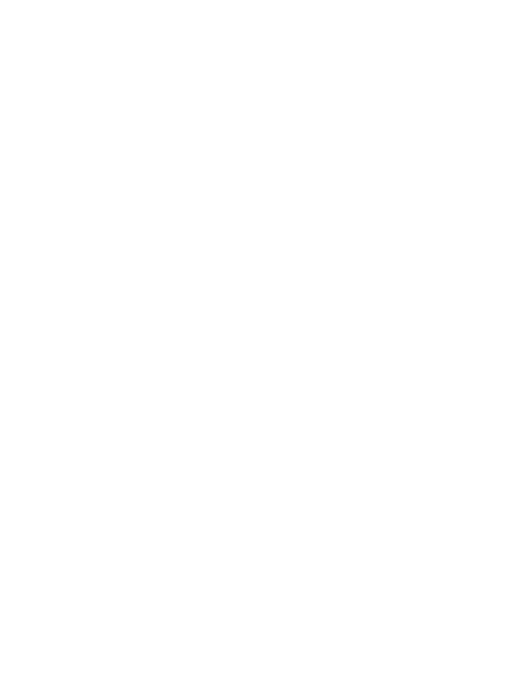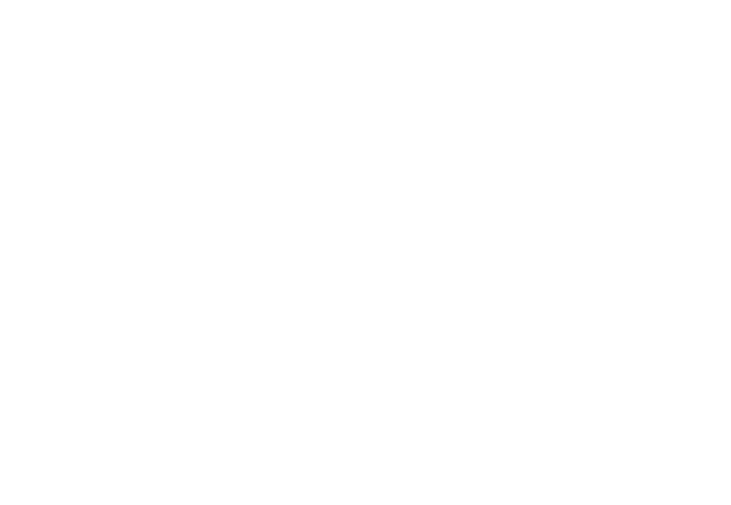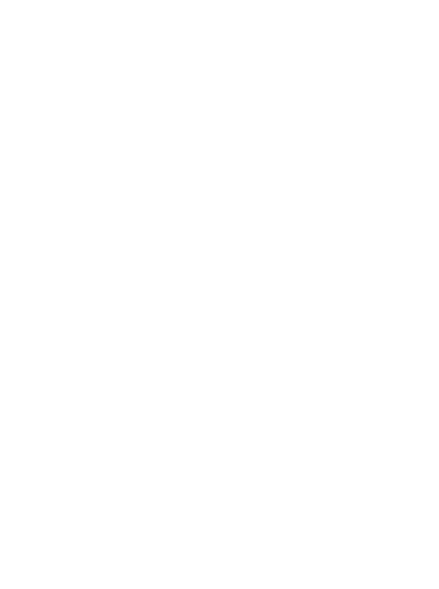Но самые первые, поблескивающие на дне памяти, как на две колодца, воспоминания связаны у меня с Баку. Кусок неба над нагорной частью старого города, крутая мощенная крупным булыжником улица, Тазапирская мечеть, зной, прохладный дворик.
Поздней – Златоустовская улица в Киеве, балкон на третьем этаже, открывающий пестроту рынка. Киевские предместья – Святошино и Пуща-Водица, высокие кусты жасмина и сосновые просеки, одуряюще пахнущие черемуховые склоны и купы влажной яростью зацветающей сирени.
Природа внушала мне понятие о красоте – то безмолвной и безмятежной, то буревой и взвихренной. Всегда любил и теперь люблю грозу. Ее силы накапливаются в борении, исподволь нарастает тревога, все ближе предел ожидания, разрядка, раскованность, окрыленность, широко раздавшиеся горизонты земли и души.
Не берусь характеризовать, тем более оценивать свою работу. Но, говоря об истоках ее, хочу заметить: моя любовь к поэзии родилась одновременно с любовью к природе; она была ко мне добрее, чем люди.
В детстве и юности занимался живописью, учился музыке, писал стихи. После школы-семилетки работал на заводе «Арсенал»: сперва чернорабочим, потом в токарном цехе, еще поздней – чертежником. Прежде чем выйти к людям со стихами, сменил много профессий. Рисовал плакаты и обложки для книг, играл в симфоническом оркестре, учительствовал, сотрудничал в газете.
Я стеснялся, когда меня называли поэтом, и мне самому до сих пор мучительно трудно называть себя этим непомерно ответственным именем.
Поэзия всегда была для меня особым поприщем, которое Каролина Павлова назвала «святым ремеслом», а Илья Сельвинский – «службой крови». Таковой и буду почитать ее до конца дней моих.
Многое в творчестве поэта продолжает оставаться тайной даже для него самого. Но одно несомненно: поэзия растворена в жизни, как соль в море, надо только уметь почувствовать это и выразить в слове.
Молодость моя – это годы учения (1934-1939) в Московском институте истории, философии и литературы, кратко именуемом ИФЛИ. В стенах института и в его останкинском общежитии я обрел наставников и друзей.
Царившая в ИФЛИ атмосфера дружелюбия и взыскательности на долгие годы определила мою духовную жизнь. Здесь открылись мне огромные миры античности, Возрождения, русской классической литературы. Перед самой войной в этом же институте я закончил аспирантуру.
В начале Великой Отечественной войны по призыву комсомола был в числе ифлийцев в прифронтовой зоне Северного Кавказа, затем с ифлийцами же работал в газете «Победа за нами».
Благом для меня было общение с Пастернаком и Ахматовой, с Асеевым и Сельвинским, со Светловым и Олешей… Называло далеко не всех преинтереснейших людей, с которыми свела меня судьба. Это старшие. К их голосам прислушивался. Их советами следовал.
Около четверти века веду творческий семинар в Литературном институте имени А. М. Горького. Долгое время работал с молодежью литературного объединения Московского автозавода имени Лихачева. Учить не учась, по-моему, невозможно. Учился и учусь не только у старших, но и у молодых. И все же сокрушает меня несоответствие между задуманной мной жизнью и тем, что успел пока сделать.
Прожитые годы не утолили моей жажды творить и искать, а горький опыт не перечеркнул моего удивления перед чудом жизни: перед ранним утром, пшеничным колосом, перелетом птиц, лесной опушкой, перед школьниками, идущими на урок, перед старым чабаном-звездочетом…
Кстати, о звездах. С давних лет люблю писать о них. Когда свои ранние стихи прочитал я в киевском объединении молодых авторов году в 1933-1934, один из ораторов, рассекая воздух ребром кисти, выкрикивал:
– О чем вы пишете?! Не нужны пролетариату ваши звезды и ваш космос…
Хотел бы я увидеть сейчас этого оратора и узнать, что он думает сегодня по поводу звезд и космоса…
Люблю дорогу. Поездки по стране даровали мне не только радость пути, но и чувство больших расстояний, но и показали исторический пейзаж нашего Отечества. «Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти», – говорил Бальзак. И я шел к Литве и Осетии, Карелии и Азербайджану, Украине и Белоруссии… Так дорога из понятия пространственного, географического, стала для меня понятием духовным, а самое пространство – протяженностью во времени. Временем.
Дороги вели из дома и возвращали домой. Очевидно, в такой час возвращения и были сказаны слова о «дыме Отечества».
Если говорить о стихотворной манере, то поначалу мне ближе всего была такая, которую я мог бы назвать живописной, или пластической. Мне не терпелось передать в слове плоть бытия. Но позднее я понял, что эта манера выражает только внешнее, зримое и не дает проявиться всей полноте внутреннего мира, без которой нет и не может быть лирики.
Мне по нраву такая стихотворная речь, в которой жизнь души передана без романсовой жеманности и столь модной сейчас расхожей сентиментальности.
Не стал я, увы, музыкантом, хотя мечтал о дирижерстве и композиторстве. По-видимому, давно живущее во мне мелодическое начало не могло не сказаться в слове. Мелодика встретилась с пластикой. Это была важная встреча. Мысль не оставила их наедине. Она соединила их и образовала некий тройственный союз: пластика – мелодика – мысль. Можно и иначе: мелодика – пластика – мысль. А можно и так: мысль – пластика – мелодика. В зависимости от того, что в данном стихотворении становится главным и определяющим.
Но что бы ни было главным и определяющим, весь этот тройственный союз ничего не значит, если не основывается на пережитом. Без этого нет поэзии. Без переживания (радостного, драматического, трагичного) лирика – не лирика, а набор слов, искусно или неискусно расставленных. Не вдруг поэзия мне открылась, как исповедь. Она открывалась в этом качестве постепенно, в ходе самой жизни, в ходе познания человека, в ходе самопознания.
Пушкин и Тютчев, Баратынский и Анненский, Блок и Есенин уберегли меня от крайностей живописной манеры и показали все преимущества чуткой и отзывчивой, доверительно-дневниковой поэзии. Жизнь учила, пример вразумлял.
Каждое стихотворение – даже для человека ежедневно пишущего стихи – неожиданность. Ожиданием неожиданности предстает день поэта. Со стороны это кажется привлекательным и даже таинственным. Но это – адова работа. Круглосуточная вахта. Да еще у самого сердца.
Главное для поэта – не пропустить лирический момент. Потом явятся и точные строки, потом и текст будет отделан. А сейчас – надо схватить настроение, мысль, образ, закрепить их на бумаге.
В момент работы каждое стихотворение – это радость, порой даже восторг, а после окончания – сущее проклятие. Через день, через месяц, а то и через час понимаешь, как не соответствует воплощение замыслу, как велик зазор между тем, что хотелось сказать и как это удалось осуществить.
Мне много приходилось писать о других авторах. О себе говорю впервые. Очень трудная и неблагодарная задача. Утешаю себя тем, что мое предположение – вовсе не попытка что-либо подсказать читателю, а только начало моего доверительного разговора с ним».
Озеров, Л. Избранные стихотворения / Л. Озеров. – Москва : Художественная литература, 1974. – С. 4-8
Но самые первые, поблескивающие на дне памяти, как на две колодца, воспоминания связаны у меня с Баку. Кусок неба над нагорной частью старого города, крутая мощенная крупным булыжником улица, Тазапирская мечеть, зной, прохладный дворик.
Поздней – Златоустовская улица в Киеве, балкон на третьем этаже, открывающий пестроту рынка. Киевские предместья – Святошино и Пуща-Водица, высокие кусты жасмина и сосновые просеки, одуряюще пахнущие черемуховые склоны и купы влажной яростью зацветающей сирени.
Природа внушала мне понятие о красоте – то безмолвной и безмятежной, то буревой и взвихренной. Всегда любил и теперь люблю грозу. Ее силы накапливаются в борении, исподволь нарастает тревога, все ближе предел ожидания, разрядка, раскованность, окрыленность, широко раздавшиеся горизонты земли и души.
Не берусь характеризовать, тем более оценивать свою работу. Но, говоря об истоках ее, хочу заметить: моя любовь к поэзии родилась одновременно с любовью к природе; она была ко мне добрее, чем люди.
В детстве и юности занимался живописью, учился музыке, писал стихи. После школы-семилетки работал на заводе «Арсенал»: сперва чернорабочим, потом в токарном цехе, еще поздней – чертежником. Прежде чем выйти к людям со стихами, сменил много профессий. Рисовал плакаты и обложки для книг, играл в симфоническом оркестре, учительствовал, сотрудничал в газете.
Я стеснялся, когда меня называли поэтом, и мне самому до сих пор мучительно трудно называть себя этим непомерно ответственным именем.
Поэзия всегда была для меня особым поприщем, которое Каролина Павлова назвала «святым ремеслом», а Илья Сельвинский – «службой крови». Таковой и буду почитать ее до конца дней моих.
Многое в творчестве поэта продолжает оставаться тайной даже для него самого. Но одно несомненно: поэзия растворена в жизни, как соль в море, надо только уметь почувствовать это и выразить в слове.
Молодость моя – это годы учения (1934-1939) в Московском институте истории, философии и литературы, кратко именуемом ИФЛИ. В стенах института и в его останкинском общежитии я обрел наставников и друзей.
Царившая в ИФЛИ атмосфера дружелюбия и взыскательности на долгие годы определила мою духовную жизнь. Здесь открылись мне огромные миры античности, Возрождения, русской классической литературы. Перед самой войной в этом же институте я закончил аспирантуру.
В начале Великой Отечественной войны по призыву комсомола был в числе ифлийцев в прифронтовой зоне Северного Кавказа, затем с ифлийцами же работал в газете «Победа за нами».
Благом для меня было общение с Пастернаком и Ахматовой, с Асеевым и Сельвинским, со Светловым и Олешей… Называло далеко не всех преинтереснейших людей, с которыми свела меня судьба. Это старшие. К их голосам прислушивался. Их советами следовал.
Около четверти века веду творческий семинар в Литературном институте имени А. М. Горького. Долгое время работал с молодежью литературного объединения Московского автозавода имени Лихачева. Учить не учась, по-моему, невозможно. Учился и учусь не только у старших, но и у молодых. И все же сокрушает меня несоответствие между задуманной мной жизнью и тем, что успел пока сделать.
Прожитые годы не утолили моей жажды творить и искать, а горький опыт не перечеркнул моего удивления перед чудом жизни: перед ранним утром, пшеничным колосом, перелетом птиц, лесной опушкой, перед школьниками, идущими на урок, перед старым чабаном-звездочетом…
Кстати, о звездах. С давних лет люблю писать о них. Когда свои ранние стихи прочитал я в киевском объединении молодых авторов году в 1933-1934, один из ораторов, рассекая воздух ребром кисти, выкрикивал:
– О чем вы пишете?! Не нужны пролетариату ваши звезды и ваш космос…
Хотел бы я увидеть сейчас этого оратора и узнать, что он думает сегодня по поводу звезд и космоса…
Люблю дорогу. Поездки по стране даровали мне не только радость пути, но и чувство больших расстояний, но и показали исторический пейзаж нашего Отечества. «Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти», – говорил Бальзак. И я шел к Литве и Осетии, Карелии и Азербайджану, Украине и Белоруссии… Так дорога из понятия пространственного, географического, стала для меня понятием духовным, а самое пространство – протяженностью во времени. Временем.
Дороги вели из дома и возвращали домой. Очевидно, в такой час возвращения и были сказаны слова о «дыме Отечества».
Если говорить о стихотворной манере, то поначалу мне ближе всего была такая, которую я мог бы назвать живописной, или пластической. Мне не терпелось передать в слове плоть бытия. Но позднее я понял, что эта манера выражает только внешнее, зримое и не дает проявиться всей полноте внутреннего мира, без которой нет и не может быть лирики.
Мне по нраву такая стихотворная речь, в которой жизнь души передана без романсовой жеманности и столь модной сейчас расхожей сентиментальности.
Не стал я, увы, музыкантом, хотя мечтал о дирижерстве и композиторстве. По-видимому, давно живущее во мне мелодическое начало не могло не сказаться в слове. Мелодика встретилась с пластикой. Это была важная встреча. Мысль не оставила их наедине. Она соединила их и образовала некий тройственный союз: пластика – мелодика – мысль. Можно и иначе: мелодика – пластика – мысль. А можно и так: мысль – пластика – мелодика. В зависимости от того, что в данном стихотворении становится главным и определяющим.
Но что бы ни было главным и определяющим, весь этот тройственный союз ничего не значит, если не основывается на пережитом. Без этого нет поэзии. Без переживания (радостного, драматического, трагичного) лирика – не лирика, а набор слов, искусно или неискусно расставленных. Не вдруг поэзия мне открылась, как исповедь. Она открывалась в этом качестве постепенно, в ходе самой жизни, в ходе познания человека, в ходе самопознания.
Пушкин и Тютчев, Баратынский и Анненский, Блок и Есенин уберегли меня от крайностей живописной манеры и показали все преимущества чуткой и отзывчивой, доверительно-дневниковой поэзии. Жизнь учила, пример вразумлял.
Каждое стихотворение – даже для человека ежедневно пишущего стихи – неожиданность. Ожиданием неожиданности предстает день поэта. Со стороны это кажется привлекательным и даже таинственным. Но это – адова работа. Круглосуточная вахта. Да еще у самого сердца.
Главное для поэта – не пропустить лирический момент. Потом явятся и точные строки, потом и текст будет отделан. А сейчас – надо схватить настроение, мысль, образ, закрепить их на бумаге.
В момент работы каждое стихотворение – это радость, порой даже восторг, а после окончания – сущее проклятие. Через день, через месяц, а то и через час понимаешь, как не соответствует воплощение замыслу, как велик зазор между тем, что хотелось сказать и как это удалось осуществить.
Мне много приходилось писать о других авторах. О себе говорю впервые. Очень трудная и неблагодарная задача. Утешаю себя тем, что мое предположение – вовсе не попытка что-либо подсказать читателю, а только начало моего доверительного разговора с ним».
Озеров, Л. Избранные стихотворения / Л. Озеров. – Москва : Художественная литература, 1974. – С. 4-8
Мать
Одна ты стоишь на перроне внизу.
Я слышу — ты шепчешь, я вижу слезу.
А мы удаляемся.
Стекла двоятся.
В каком это, — левом иль правом глазу?
Земля уплывает.
А облака клок.
Увлек за собою сухой ветерок.
Свисток привокзальный...
И белый до боли
На светлом лугу материнский платок.
А мы удаляемся.
Круча ушла.
И лавры высокой горят купола.
Прощайте, прощайте, пахучие липы,
И скрипы уключин, и взмахи весла!
Прощай, Приднепровья горячий песок!
Огнем обожжен ты
И кровью намок...
Завод на колесах, покрытый брезентом,
Увозим от немцев
На юго-восток.
Уже Украина ушла за бугор,
И взгляду открылся соленый простор
Каспийского моря,
Поселки рыбачьи,
И склоны камнями заваленных гор.
Так вот оно, море!
А ветер игрив,
И Каспий обычен — прилив и отлив.
Дороги расходятся.
Где ты, аукнись!
Мы встретимся скоро.
Я верю. Я жив.
Я жив, но от сердца отломлен кусок, —
Украинский ветер — сухой ветерок.
Откликнись!
О, где же ты, белый до боли
На светлом лугу материнский платок?
1941 г.
Озеров, Л. А. Ливень / Л. А. Озеров. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – С. 6-7
В пути
Еду я в товарном поезде.
Полночь, холодно, не боязно.
Каспий ходит под луной.
Ночь огромная и тихая,
А сверчок все время тикает
Под овчиной, подо мной.
А машины в масле, в извести.
Мне их поручили вывезти
В глубь страны. Пришла пора, —
Поневоле новоселами
Вместе с ними — невеселые —
Едут наши мастера.
Я проснулся: море доброе, —
Под водой поводит ребрами
И лежит, все — на боку.
Тянет поезд песню длинную
Дагестанскою долиною
От Дербента до Баку.
Высь над нами ястребиная.
Вера в жизнь неистребимая
В каждом сердце и семье.
А земля-то вся расколота.
Хлеб наш, хлеб наш — чище золота, —
Быть бы хлебу на земле!
К нам подсел товарищ раненый.
«Что на фронте? Как дела?»
Даль приморская светла.
Тихо-тихо. Утро раннее.
Море, море и огни.
Нет, мы в горе не одни.
С нами крепкое содружество,
Наша сила, наше мужество.
Нашим потом пахнет дом,
Нашей кровью и кручиною.
Бьется сердце под овчиною,
Бьется речка подо льдом.
1941 г.
Озеров, Л. А. Ливень / Л. А. Озеров. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – С. 8-9
***
В горячее украинское лето,
Под взрывы бомб немецких, до зари
Выходит активист из сельсовета, —
В его мешке печать и сухари.
Он день идет и ночь, и утром рано
Лесной сторожки открывает дверь.
Рыбачья сеть висит в оконной раме,
На стенке серый суслик — местный зверь.
Сидят друзья.
Их имена условны.
Но знают их на сотни верст окрест.
Гудериан в приказах многословных
Зовет Степана — генерал фон-С.
За голенищем цинковая ложка,
В руке фонарик, и на этот свет
Идут ребята, и гудит сторожка, —
Похоже: заседает сельсовет.
1942 г.
Озеров, Л. А. Ливень / Л. А. Озеров. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – С. 12
***
Мы родились. У колыбели
Гудела первая война.
Едва мы вырасти успели, —
Опять война, еще одна.
О той мы знаем по рассказам.
А ныне — ты боец, иди, —
Всю силу воли, весь свой разум
Отдай народу — победи!
Мы наш, мы новый мир творили,
Росли и строили, когда
В предгрозовом удушье стыли
Европы трудные года.
Не только в пору прилежанья
И честной жажды быть собой, —
Тревожный выход к возмужанью
Нам открывался через бой.
И пережившим годы эти,
Прошедшим море по волнам, —
Нам удивятся наши дети,
А внуки не поверят нам.
Но мысленно перенесутся
Из будущего в наши дни,
В эпоху войн и революций.
Нам позавидуют они.
1941 г.
Озеров, Л. А. Ливень / Л. А. Озеров. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – С. 13-14
Ветер
Вы не знаете, что значит –
Сумасшедшего ветра галоп.
Провода не дрожат уже – плачут,
Деревянным становиться лоб
И чужим. Это крепкий напиток,
Это ветер, перстом ледяным
Поднимающий веки убитых,
Опускающий веки живым.
1942 г.
Озеров, Л. А. Избранные стихотворения / Л. А. Озеров. –
Москва : Художественная литература, 1974. – С. 183
ВремяХарактер наш легко понять —
И в лётном почерке Гастелло,
И в том, как провожает мать
Меньшого на святое дело,
И в том, как быстро он мужает,
Как он застенчив, но уже
Душа Гастелло оживает
В его пылающей душе.
1943 г.
Озеров, Л. А. Ливень / Л. А. Озеров. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – С. 5
1
Историография:
1
Описание архивных документов: